Растет давление на поставки металлов, необходимых для производства возобновляемой энергии и электромобилей, поскольку страны стремятся достичь нулевого уровня выбросов углерода к 2050 году.
В последние месяцы Великобритания подписала соглашение с Замбией, Япония заключила партнёрское соглашение с Намибией, а ЕС объединил усилия с Чили. Переговорщики ЕС также начали работать с Конго, в то время как США обратили внимание на Монголию. Эти усилия направлены на поиск источников полезных ископаемых, необходимых для декарбонизации, или «зелёных» металлов.
Существует три группы «зелёных» металлов, широко используемых во многих отраслях промышленности: алюминий и сталь используются для производства солнечных панелей и турбин, а медь важна для всего: от кабелей до автомобилей. Группа, используемая в аккумуляторах электромобилей, включает кобальт, литий и никель, из которых состоит катод, и графит, который является основным компонентом анода. Последняя группа — это магнитные редкоземельные металлы, такие как неодим, которые используются в двигателях электромобилей и турбогенераторах и пользуются низким спросом.
По данным консалтинговой компании Energy Transitions Commission (ETC), 72 страны, на долю которых приходится четыре пятых мировых выбросов, взяли на себя обязательство достичь углеродной нейтральности к 2050 году. Для достижения этой цели мощность ветроэнергетики должна увеличиться в 15 раз, солнечной энергетики — в 25 раз, сетевая инфраструктура должна увеличиться в 3 раза, а количество электромобилей — в 60 раз.
К 2030 году спрос на медь и никель может увеличиться на 50–70%, на кобальт и неодим – на 150%, а на графит и литий – в шесть–семь раз. По данным Международного энергетического агентства, в общей сложности для достижения углеродной нейтральности к 2050 году потребуется 35 миллионов тонн «зелёных металлов» в год. Если включить традиционные металлы, также необходимые для этого процесса, такие как алюминий и сталь, то спрос на текущий момент составит 6,5 миллиарда тонн.
Именно поэтому страны обеспокоены возможным полным дефицитом мировых запасов минерального сырья к концу этого десятилетия. ETC ожидает, что к 2030 году дефицит меди и никеля составит около 10–15%, а других металлов, используемых в аккумуляторах, — 30–45%.
Так что же насчёт поставок этих металлов? Сталь, вероятно, останется в изобилии. Кобальт также в изобилии. Но, согласно прогнозам экспертов, опубликованным в журнале The Economist , к 2030 году дефицит меди составит 2–4 миллиона тонн, что составит 6–15% от потенциального спроса. Дефицит лития составит 50 000–100 000 тонн, что составит 2–4% от спроса. Никель и графит теоретически имеются в изобилии, но для аккумуляторов требуется высокая чистота. Слишком мало плавильных заводов для переработки бокситов в алюминий. А неодим практически никто не производит за пределами Китая.
The Economist предлагает три решения этих проблем. Во-первых, производители могут увеличить добычу на существующих шахтах, что можно сделать немедленно, но прирост добычи ограничен. Во-вторых, компании могут открыть новые шахты, что может полностью решить проблему, но потребует много времени.
Эти ограничения делают третье решение наиболее важным, по крайней мере, в следующем десятилетии. Речь идёт о поиске способов устранения «узких мест в экологическом секторе». К ним относится повторное использование большего количества материалов, что, скорее всего, будет иметь место в случае алюминия, меди и никеля. Индустрия переработки отходов всё ещё фрагментирована и могла бы расти при более высоких ценах. Некоторые усилия в этом направлении уже предпринимаются, например, горнодобывающий гигант HP финансирует стартап по переработке никеля в Танзании.
Хью Маккей, главный экономист HP, подсчитал, что через десять лет доля лома в общем объёме поставок меди может увеличиться с 35% до 50%. Rio Tinto также инвестирует в центры переработки алюминия. В прошлом году стартапы по переработке металлических аккумуляторов привлекли рекордные 500 миллионов долларов.
Более масштабный путь — перезапустить простаивающие рудники, наиболее перспективным из которых является алюминиевый. С декабря 2021 года из-за стремительного роста цен на энергоносители в Европе сократились мощности по выплавке алюминия на 1,4 млн тонн в год (2% от мировых). По словам Грэма Трейна, главного аналитика по металлам и минералам в Trafigura, рост цен на алюминий на 25% приведёт к возобновлению работы большего числа рудников.
И самая большая надежда возлагается на технологии, позволяющие максимально эффективно использовать дефицитные запасы. Компании разрабатывают процессы, называемые «выщелачиванием хвостов», которые позволяют извлекать медь из руд с низким содержанием металлов. По словам Дэниела Малчука, члена совета директоров американской компании Jetti Resources, специализирующейся на технологиях добычи ресурсов, масштабное применение этой технологии может позволить производить дополнительно 1 миллион тонн меди в год при минимальных затратах.

Рабочий на заводе по переработке никеля в провинции Южный Сулавеси, Индонезия. Фото: Reuters
В Индонезии, крупнейшем в мире производителе никеля, горнодобытчики используют процесс, называемый «выщелачиванием под высоким давлением», для превращения бедной руды в материал, подходящий для электромобилей. Построено три завода стоимостью в несколько миллиардов долларов, а также объявлено о дополнительных проектах стоимостью почти 20 миллиардов долларов.
Дарья Ефанова, руководитель исследований британской финансовой компании Sucden, подсчитала, что к 2030 году Индонезия сможет производить около 400 000 тонн высококачественного никеля, частично восполнив ожидаемый дефицит поставок в размере 900 000 тонн.
Однако новые технологии всё ещё нестабильны и могут иметь недостатки, такие как загрязнение окружающей среды. Поэтому открытие новых рудников принесёт большую прибыль, даже если это займёт время. В настоящее время по всему миру реализуется 382 проекта по добыче кобальта, меди, лития и никеля, которые уже приступили к предварительным технико-экономическим обоснованиям. По данным консалтинговой компании McKinsey, если они будут запущены к 2030 году, они смогут сбалансировать спрос.
В настоящее время в мире действует около 500 рудников по добыче кобальта, меди, лития и никеля. Для своевременного ввода в эксплуатацию 382 новых рудников потребуется преодолеть ряд препятствий. Во-первых, это нехватка средств. По данным McKinsey, для покрытия дефицита предложения к 2030 году ежегодные капитальные затраты в горнодобывающей промышленности необходимо будет удвоить до 300 миллиардов долларов.
Консалтинговая компания CRU прогнозирует, что расходы только на медь к 2027 году достигнут 22 миллиардов долларов, что выше среднего показателя в 15 миллиардов долларов в период с 2016 по 2021 год. Инвестиции крупных горнодобывающих компаний растут, но недостаточно быстро. Кроме того, освоение новых рудников занимает много времени: от четырёх до семи лет для лития и в среднем 17 лет для меди. Задержка может быть более длительной из-за нехватки разрешений.
Поскольку активисты, правительства и регулирующие органы все чаще блокируют проекты по экологическим соображениям, в период с 2017 по 2021 год на одобрение строительства новых шахт в Чили уходило в среднем 311 дней по сравнению со 139 днями в период с 2002 по 2006 год.
Содержание металла в медной руде, добываемой в странах с более благоприятными условиями, снижается, что вынуждает компании переориентироваться на более суровые регионы. Две трети новых поставок, ожидаемых к 2030 году, будут приходиться на страны, входящие в число 50 стран с самыми низкими показателями по индексу «легкости ведения бизнеса» Всемирного банка.
Всё это означает, что новые поставки могут быть лишь долгосрочным решением. Следовательно, существенная корректировка в течение следующего десятилетия будет зависеть от экономии ресурсов. Однако насколько она будет велика, предсказать сложно, поскольку это зависит от способности производственных компаний к инновациям.
Например, производители электромобилей и аккумуляторов добились значительных успехов в снижении потребления металла. Типичный аккумулятор электромобиля теперь содержит всего 69 кг меди, по сравнению с 80 кг в 2020 году. Саймон Моррис, руководитель отдела первичных металлов CRU, подсчитал, что для аккумуляторов следующего поколения потребуется всего 21–50 кг меди, что позволит сэкономить до 2 миллионов тонн меди в год к 2035 году. Потребление лития в аккумуляторах также может сократиться вдвое к 2027 году.
Помимо экономии и альтернатив. В катодах аккумуляторов никель-марганцево-кобальтовые сплавы, содержащие равное количество кобальта и никеля, известные как NMC 111, постепенно заменяются на NMC 721 и 811, которые содержат больше никеля, но меньше кобальта. В то же время, в Китае, где городским жителям не требуется большой запас хода на одной зарядке, популярны более дешёвые, но менее энергоёмкие литий-железо-фосфатные (LFP) смеси.
Графитовые аноды также легируются кремнием (который широко распространен). Tesla заявляет, что будет создавать двигатели без редкоземельных элементов. Натрий-ионные аккумуляторы, в которых литий заменен на натрий (шестой по распространённости элемент на Земле), могут оказаться успешными.
Потребительские предпочтения также будут играть свою роль. Сегодня люди хотят, чтобы их электромобили могли проезжать 600 километров на одной зарядке, но мало кто регулярно совершает такие дальние поездки. В условиях дефицита лития автопроизводители могли бы разрабатывать автомобили с меньшим запасом хода и сменными аккумуляторами, что значительно уменьшит их размер. При разумной цене внедрение может быть быстрым.
Главная проблема — медь, которую непросто исключить из сети. Но изменение потребительского поведения может помочь. По оценкам CRU, спрос на медь для «зелёных» целей вырастет с 7% сегодня до 21% к 2030 году. По мере роста цен на металл продажи телефонов и стиральных машин, которые также содержат медь, могут снизиться быстрее, чем продажи силовых кабелей и солнечных панелей, особенно если рынок зелёных технологий будет субсидироваться государством.
К концу 2030-х годов может появиться достаточно новых шахт и мощностей по переработке, чтобы позволить переходу к «зелёной» экономике идти по плану. Однако, по данным журнала The Economist , риск заключается в других сбоях.
Поскольку предложение сосредоточено в нескольких странах, локальные беспорядки, геополитические конфликты или даже плохая погода могут оказать влияние. Забастовка шахтёров в Перу или трёхмесячная засуха в Индонезии могут повлиять на цены или сократить поставки меди и никеля на 5–15%. Однако, согласно моделированию Liberum Capital (Великобритания), при наличии устойчивых покупателей, сильного правительства и некоторой удачи, рост спроса на «зелёные» металлы может не привести к катастрофическим обвалам.
Phien An ( по данным The Economist )
Ссылка на источник



![[Фото] Молодежь Хошимина принимает меры для улучшения окружающей среды](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/04/1762233574890_550816358-1108586934787014-6430522970717297480-n-1-jpg.webp)
![[Фото] Ка Мау «с трудом» справляется с самым высоким приливом года, прогнозируется превышение уровня опасности 3.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/04/1762235371445_ndo_br_trieu-cuong-2-6486-jpg.webp)
![[Фото] Дорога, соединяющая Донгнай с Хошимином, все еще не достроена после 5 лет строительства.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/04/1762241675985_ndo_br_dji-20251104104418-0635-d-resize-1295-jpg.webp)

![[Фото] Панорама Конгресса патриотического соревнования газеты «Нян Дан» на период 2025-2030 гг.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/04/1762252775462_ndo_br_dhthiduayeuncbaond-6125-jpg.webp)




































































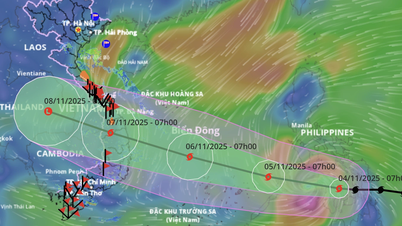




























Комментарий (0)