
Эта тенденция находит отражение в сохранении США высоких пошлин на китайские товары и принятии таких законов, как Закон о CHIPS и науке , заявленной целью которого является реиндустриализация и контроль над ключевыми технологиями. Европейский союз (ЕС) не является исключением из этой тенденции, проводя политику стратегической автономии, основанную на Европейском зелёном курсе (European Green Deal), и мерах по защите своего внутреннего рынка. Индия также ввела пошлины на импортируемые солнечные панели с 2018 года, чтобы предотвратить приток аналогичной продукции из Китая.
Нетарифные меры, или технические барьеры, такие как санитарные и фитосанитарные меры, становятся всё более распространёнными. К 2022 году более 70% мировой торговли будет подпадать под действие технических барьеров. Вводя особые правила, касающиеся характера продукции или способа её производства, эти меры фактически создают барьеры для импорта продукции, не соответствующей новым правилам. ЕС активно применяет такую политику для защиты своего внутреннего сельскохозяйственного сектора, при этом 90% торговли сельскохозяйственной продукцией подпадает под эти условия. Эти ограничительные меры представляют собой исключение из принципа наибольшего благоприятствования и противоречат принципу многосторонности, пропагандируемому Всемирной торговой организацией (ВТО).
Китай особенно пострадал от роста протекционизма. Его вступление в ВТО в 2001 году было синонимом роста экспорта, поскольку страна получила значительное снижение тарифов на свои экспортные товары (в рамках режима наибольшего благоприятствования). Однако после финансового кризиса 2008 года этот азиатский гигант стал одной из основных целей для членов ВТО. В 2019 году 45% мирового импорта было затронуто временными протекционистскими мерами, связанными с Китаем, по сравнению с 14% в 2001 году. Эта доля продолжает расти из-за торговой напряженности между Китаем и Соединенными Штатами, которая обострилась после первого срока президента США Дональда Трампа (2017–2021).
Последнее десятилетие также ознаменовало собой изменение в применении торговой политики. Классические доводы в пользу защиты отечественной промышленности теперь уступили место политическим и, в более широком смысле, геополитическим аргументам. Первый президентский срок г-на Трампа — яркий пример, иллюстрирующий тесную связь между торговой политикой и предвыборной платформой. Он построил медийную кампанию, основанную на лозунге «Америка прежде всего», чтобы выиграть гонку за Белый дом на срок 2017–2021 годов, и продолжил избираться на недавних президентских выборах в США с лозунгом «Сделаем Америку снова великой».
Наконец, отмечается, что страны всё чаще используют нетрадиционные инструменты, которые на первый взгляд не кажутся протекционистскими по своей природе, но оказывают весьма существенное протекционистское воздействие. Например, Закон о снижении инфляции (IRA), принятый правительством США в июле 2022 года, позволяет американским домохозяйствам и предприятиям получать субсидии на потребление и производство электромобилей. Однако под видом содействия развитию индустрии «зелёных» автомобилей закон предоставляет государственные субсидии с внутренними преференциальными условиями. Аналогичным образом, ЕС также вооружился новыми торговыми инструментами, которые позволяют ему принимать меры по усилению внутренней протекционистской политики в ответ на внешнее давление.
Возможности и проблемы переплетаются
Протекционистская политика привела к полной реструктуризации глобальной цепочки поставок. Компании переходят от оптимизации затрат к обеспечению безопасности. В мире наблюдаются три основные тенденции: перенос производства к проверенным партнерам (френдшоринг), перемещение производства ближе к потребительскому рынку (ниаршоринг) и возвращение производственных линий домой (решоринг).
Эта преднамеренная реконфигурация торговли в целях безопасности всё больше навязывает логику близости, как географической, так и стоимостной, – способ наполнить содержанием концепции ниаршоринга или френдшоринга. Фактически, США стремятся к сближению и созданию цепочек создания стоимости на материковой части США в рамках Соглашения между США, Канадой и Мексикой (USMCA). В Азии, в соответствии с идеей глобализации среди друзей, США отдают приоритет торговле со своими союзниками – Японией, Южной Кореей и Тайванем (Китай), – особенно в сфере обмена ключевыми технологиями, такими как новейшее поколение микросхем.
Тенденция к деглобализации несёт как возможности, так и проблемы. Положительным моментом является то, что она способствует укреплению безопасности цепочек поставок, развитию отечественной промышленности и снижению зависимости от отдельных источников поставок. Однако нельзя отрицать и её негативные последствия: рост издержек производства, рост инфляции и снижение экономической эффективности из-за утраты специализации и масштаба.
По словам Изабель Жоб-Базилль, директора по экономическим исследованиям банка Crédit Agricole во Франции, хотя последние события и продемонстрировали усиление протекционистских тенденций, реализация протекционистских мер, по всей видимости, стала для правительств более сложной и неопределенной задачей, учитывая переплетение международных цепочек создания стоимости. Поэтому сложно сказать, понесет ли экономика, принимающая протекционистскую политику, больше дополнительных расходов, чем экономики, изначально подвергшиеся протекционистским мерам.
Например, недавнее исследование американских экономистов Мэри Амити, Стивена Реддинга и Дэвида Вайнштейна показало, что в 2018 году, в период протекционистских мер администрации Трампа, рентабельность компаний, экспортирующих свою продукцию в США, оставалась неизменной, поскольку весь рост таможенных пошлин был переложен на отпускную цену. В результате именно американские потребители и американские компании, импортирующие товары, необходимые для их производства, платили протекционистские пошлины, сумма которых оценивалась до 4 миллиардов долларов в месяц.
Таким образом, протекционистские меры в виде пошлин, введённые при президенте Трампе, привели к росту цен на товары, поступающие из Китая в США, и платят за это повышение внутренние потребители и импортёры, а не компании или страны-экспортёры. Это подчёркивает возможную несовместимость целей правительств и бизнеса. Геополитика принадлежит правительствам, но её воплощение в экономические отношения зависит от поведения бизнеса, часто транснациональных корпораций.
Заглядывая в будущее, можно ожидать, что протекционистская тенденция сохранится и усилится в ближайшие годы. В период 2024–2025 годов протекционистская политика продолжится, а цепочки поставок будут реструктурированы. К 2026–2030 годам мы можем наблюдать четкое формирование многополярного торгового порядка с региональными цепочками поставок и новым балансом в международных экономических отношениях. В этом контексте странам необходимо разработать соответствующие национальные промышленные стратегии, диверсифицировать торговые отношения и активно инвестировать в технологии и человеческие ресурсы.
Ключ к успеху — найти баланс между протекционизмом и открытостью, между безопасностью и эффективностью. Для бизнеса сейчас критически важный момент для корректировки стратегий. Необходимо диверсифицировать цепочки поставок, продвигать цифровизацию и автоматизацию, а также развивать внутренний рынок как линию защиты от внешних колебаний.
Тенденция к деглобализации и торговому протекционизму не означает конец международного сотрудничества. Напротив, мир переживает переход к новой модели, сочетающей интеграцию и автономию, эффективность и безопасность. Задача международного сообщества заключается в том, как эффективно управлять этим переходом, избегать ненужных конфликтов и обеспечивать справедливый и устойчивый мировой экономический порядок для всех сторон.
Заключительная статья: Укрепление позиций Вьетнама на мировом рынке
Source: https://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/trien-vong-tang-truong-tu-mot-the-gioi-bien-dong-bai-4-xu-huong-len-ngi-cua-chu-nghia-bao-ho-va-phi-toan-cau-hoa/20241206102115459






![[Фото] Закрытие XIV конференции Центрального Комитета партии XIII созыва](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/06/1762404919012_a1-bnd-5975-5183-jpg.webp)

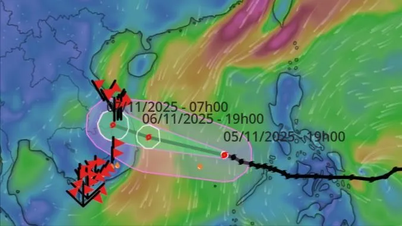









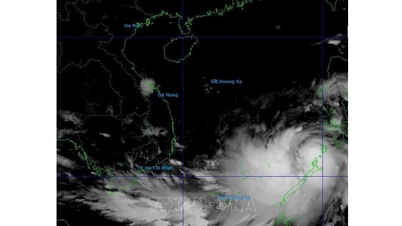





























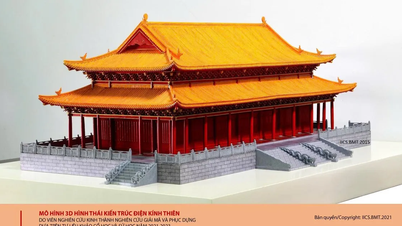






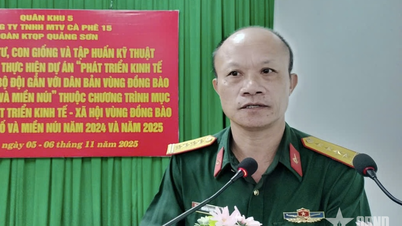

























































Комментарий (0)